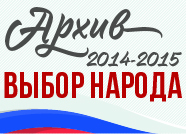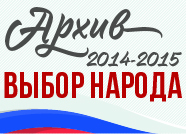О женских истоках политики Южного Урала, духовных скрепах и других ценностях неопатриархата, а также о роли небольшого лишнего веса в партийном имидже рассказал Андрей Романов, доцент кафедры политических наук и международных отношений историко-филологического факультета ЧелГУ, кандидат исторических наук, эксперт по вопросам политической имиджелогии и PR.
— Андрей Петрович, как вы можете охарактеризовать имидж ведущих политических сил Челябинской области? В чем различия в методах его формирования у каждой из партий?
Гендерные-выборы_Романов-Андрей.jpg— Имидж «Справедливой России» и ЛДПР опирается на персональный колорит их лидеров; для ЛДПР — это сам Владимир Жириновский, для эсеров таким лидером, на мой взгляд внезапно, оказался вновь заполнивший медиа актуальной темой платы за капремонт Валерий Гартунг. Впрочем, никаких новаций в этом отношении не наблюдается. Почему это именно так — вопрос уже к знатокам политического процесса.
Что касается КПРФ, то я лично в региональном медиапространстве и уличной рекламе эту партию вообще не замечаю. «Единая Россия» же использует свой организационный и материальный ресурс, но также не особенно ярко и заметно. Билборды с региональной тройкой и отдельными кандидатами выдержаны в традиционном партийном стиле и цветах, что, впрочем, не удивляет. Партия стремится производить солидное впечатление, отсюда и ограниченность в выборе методов. Кандидаты при таком подходе также не должны слишком сильно отличаться друг от друга по визуальному ряду, им необходимо выглядеть консервативно-солидно. Указанная тройка создает впечатление «три молодца — одинаковы с лица»; несмотря даже на то, что среди них появляется женщина (Маргарита Павлова, детский омбудсмен региона. — Прим. авт.), она не сильно отличается от своих соседей по плакату мужчин по стилю. Все кандидаты партии власти, таким образом, типичны: деловой костюм, небольшой лишний вес, стандартные улыбки.
Очевидно, что главной задачей для имиджевой кампании «Единой России» является не допустить скандалов, не ввязываться в полемику с тем же Гартунгом, а встроиться в декларируемую политико-экономическую линию президента, создавая впечатление единого фронта, направленного против Запада, санкций, выступающего, в частности, за то же импортозамещение.
— Вы затронули фигуру Маргариты Павловой. А какую роль в предстоящих выборах играет или может сыграть гендерный фактор?
— Гендерный фактор, на мой взгляд, в этот раз роли никакой не сыграет. В политической российской практике сейчас торжествуют ценности «неопатриархата»: духовные скрепы, чувства верующих, гомофобия, милитаризм… Ранее социологи уже отмечали характерную для 1990-х годов, для России и постсоветских стран, тенденцию «ремаскулинизации», то есть укрепления мужского господства во всех сферах жизни: и в материальных практиках, и в сфере дискурса. В период экономического подъема она ослабла, а сейчас вновь отчетливо выражена.
Хотя нельзя забывать, что политика, как таковая, в нашем регионе началась именно с женщины — Раисы Подвигиной, которая на заре перестройки стала известна благодаря разоблачениям партийной номенклатуры, а первые митинги в Челябинске в 1987-88 годах как раз к этой теме и относились. Ближе к нашему времени некоторые оппозиционные кандидаты женского пола также показывали электоральный результат: например, Екатерина Горина заняла второе место на выборах мэра Челябинска в 2000 году. То есть примеры влияния женщин на политику в южноуральских реалиях присутствуют.
— Как вы можете объяснить феномен той же Маргариты Павловой, которая попала в региональную тройку, опередив, в частности, таких колоритных соперников как Вадим Воробей, координатор партийного проекта «Народный контроль», или Олег Екимов, заместитель председателя федерации профсоюзов региона?
— Павлова просто оказалась в нужное время в нужном месте. Речь скорее идет о тренде на «разнарядку» для женщин, задаваемом политическим руководством. Также важна задача привлечь к выборам электорат 1980-х годов рождения (по мнению демографов, это самое многочисленное поколение в послевоенной советской истории). Маргарита Павлова 1979 года рождения, она как раз к ним ближе всего, ведает к тому же детскими проблемами, актуальными для этого поколения, демонстрирует им же возможность политического продвижения «таких как они».
Подобные фигуры очеловечивают образ власти, к тому же играет свою роль и медиаизвестность, заработанная ей еще до административной карьеры (Павлова около десяти лет проработала на телевидении. — Прим. авт.). Она — свой человек для СМИ и умеет себя правильно в них подать.
Вадим же Воробей и Олег Екимов постарше, они попадают на электорально малочисленные поколения 1960-х и 1970-х годов рождения. К тому же, медиаактивность того же Воробья пришлась на «лихие» 90‑е: я помню его еще по своим студенческим годам, а Екимов — фигура и вовсе не очень «раскрученная». В общем, оба они весьма номенклатурные.
На праймериз же Павлова конкурировала скорее с Натальей Басковой (председатель союза женщин Челябинской области. — Прим. авт.) И благодаря, в частности, харизме и отсутствию негативно воспринимаемых медиавысказываний (вроде призыва обязать всех девушек рожать до 23 лет) ее обошла.
— А если посмотреть на гендерный фактор с другой стороны. Есть ли гендерные различия в настрое людей голосовать? Скажем, женщины или мужчины среди избирателей более политически активны?
— Если говорить о закономерностях, то в России, и на Южном Урале в частности, избирателей-женщин больше, чем мужчин, но голосовать они предпочитают за кандидатов мужчин. Сказывается влияние традиционных гендерных стереотипов, когда женщине отводится сфера дома, быта, семьи и воспитания детей. А те же «ремаскулинизация» и «неопатриархальность» усиливают данные стереотипы во многом благодаря воздействию медиа. Поэтому какой‑либо значимой роли гендерного фактора и со стороны избирателей также не предвидится. Каким‑то особенным образом повлиять на политику в регионе женщины в текущих реалиях не могут, тем более что женщин-политиков в полном смысле этого слова в нашей области сейчас и нет.
2015РегиональныеЧелябинская область